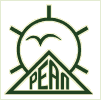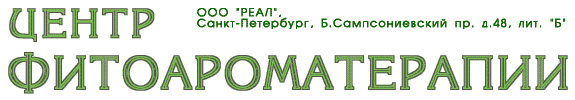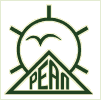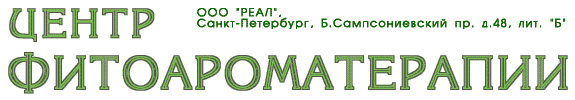|
| |
Запахи в литературе
из "Парфюмера" Зюскинда |
- В восемнадцатом столетии во Франции… В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая
для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли
мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни
— скверным углем и бараньим салом; непроветренные гостиные
воняли слежавшейся пылью, спальни — грязными простынями,
влажными перинами и остросладкими испарениями ночных горшков.
Из каминов несло серой, из дубилен — едкими щелочами, со
скотобоен — выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестираным
платьем; изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов —
луковым соком, а из тела, когда они старели, начинали пахнуть
старым сыром, и кислым молоком, и болезненными опухолями.
Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами
и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены
мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король
— он вонял, как хищный зверь, а королева — как старая коза,
зимой и летом. Ибо в восемнадцатом столетии еще не была
поставлена преграда разлагающей активности бактерий, а потому
всякая человеческая деятельность, как созидательная, так и
разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей
жизни сопровождалось вонью.
- …Гренуй… воспринимал мешанину ароматов во всей ее полноте — он расщеплял
ее аналитически на мельчайшие и отдаленнейшие части и частицы.
Его тонкий нюх распутывал узел из испарений и вони на отдельные
нити основных, более неразложимых запахов. Ему доставляло
невыразимое удовольствие распутывать и прясть эти нити.
- Сквозь чугунные решетки ворот пахло кожей карет и пудрой в париках
пажей, а через высокие стены из садов переливался аромат дрока
и роз и только что подстриженных кустов бирючины. И здесь же
Гренуй впервые услышал запах духов — в собственном смысле
слова. Это была простая лавандовая или розовая вода, которую в
торжественных случаях подмешивали в садовые фонтаны, но и более
сложные, более драгоценные ароматы мускусной настойки,
смешанной с маслом нарцисса и туберозы, жонкилий, жасмина или
корицы, которые по вечерам, как тяжелый шлейф, тянулись за
экипажами. Он запоминал эти ароматы, как запоминал вульгарные
запахи, с любопытством, но без особого изумления. Впрочем, он
заметил, что духи намеренно старались одурманить и привлечь его
обоняние, и он признал достоинства отдельных эссенций, из
которых они состояли. Но в целом они казались ему все же
грубыми и пошлыми, разбавленными, а не скомпонованными, и он
знал, что мог бы изготовить совершенно другие благовония, имей
он в своем распоряжении такие же исходные материалы.
Многие из этих материалов он уже встречал прежде, на рынке
— в цветочных рядах и рядах с пряностями, другие были для него
новыми, и их он фильтровал из ароматических смесей и
безымянными сохранял в памяти: амбру, цибетин, пачули,
сандаловое дерево, бергамот, бензойную смолу, цвет хмеля,
бобровую струю...
- …но тут ветер что-то донес до него, что-то крошечное, едва заметное, обрывок,
атом нежного запаха — нет, еще того меньше: это было скорее
предчувствие, чем действительный запах, и одновременно
уверенная догадка, что ничего подобного он никогда не слышал.
Он снова отпрянул к стене, закрыл глаза и раздул ноздри. Аромат
был так нежен и тонок, что снова и снова ускользал от
восприятия, его нельзя было удержать, его перекрывал пороховой
дым петард, блокировали испарения человеческих масс, разрывали
и стирали тысячи других запахов города. Но потом — вдруг — он
снова появлялся, какую-то короткую секунду маленький лоскуток
благоухал роскошным намеком... и тут же исчезал. Гренуй
мучительно страдал. Впервые страдал не только его алчный
характер, натолкнувшийся на оскорбление, но действительно
страдало его сердце. У него появилось смутное ощущение, что
этот аромат — ключ к порядку всех других ароматов, что нельзя
ничего понять в запахах, если не понять этого единственного, и
он, Гренуй, зря проживет жизнь, если ему не удастся овладеть
им.
- Он сразу понял, что было источником аромата,
который он учуял на расстоянии более полумили на другом берегу
реки: не этот грязный двор, не мирабель. Источником была
девушка. Он был совершенно сбит с толку. На миг ему самом деле
показалось, что еще никогда в жизни он не вдыхал ничего столь
прекрасного, как эта девушка. К тому же, стоя против света, он
видел только ее силуэт. Он, конечно, имел в виду, что никогда
не нюхал ничего столь прекрасного. Но так как он все же знал
человеческие запахи, много тысяч запахов мужчин, женщин, детей,
в его мозгу не укладывалось, что столь изысканный аромат мог
струиться от человека. Обычно люди пахли пошло или убого. Дети
пахли безвкусно, от мужчин несло мочой, острым потом и сыром,
от женщин — прогорклым салом и гнилой рыбой. Люди пахли
совершенно не интересно, отталкивающе... И вот впервые в жизни Гренуй не поверил своему носу, и ему пришлось призвать на
помощь глаза, чтобы убедиться, что нюх его не обманул... Теперь
он чуял, что она была — человек, чуял пот ее подмышек, жир ее
волос, рыбный запах ее чресел и испытывал величайшее
наслаждение. Её пот благоухал, как свежий морской ветер, волосы
— как ореховое масло, чресла — как букет водяных лилий, кожа —
как абрикосовый цвет... и соединение всех этих компонентов
создавало аромат столь роскошный, столь гармоничный, столь
волшебный, что все ароматы, когда—либо прежде слышанные Гренуем, все сооружения из запахов, которые он, играя,
когда-либо возводил внутри себя, вдруг просто разрушились,
утеряв всякий смысл. Сто тысяч ароматов не стоили этого одного.
- Гренуй понял: если он не овладеет этим ароматом, его жизнь
лишится всякого смысла. Он должен познать его до мельчайшей
подробности, до самого последнего нежнейшего оттенка; простого
общего воспоминания о нем недостаточно. Он хотел как бы
поставить личное клеймо на этом апофеозном аромате, впечатать
его в сумятицу своей черной души, исследовать до тонкости и
отныне впредь мыслить, жить, обонять мир в соответствии с
внутренними структурами этой волшебной формулы.
- Когда она умерла, он положил ее на землю среди косточек
мирабели, сорвал с нее платье, и струя аромата превратилась в
поток, захлестнувший его своим благоуханием. Он приник лицом к
ее коже и широко раздутыми ноздрями провел от ее живота к
груди, к шее, по лицу и по волосам и назад к животу, вниз по
бедрам, по икрам, по ее белым ногам. Он впитывал ее запах с
головы до ног, до кончиков пальцев, он собрал остатки ее запаха
с подбородка, пупка и со сгибов ее локтей.
- Бальдини покорнейше просил клиента присесть и насладиться
выбором изысканнейших ароматов и косметических средств. У Бальдини их были тысячи. Ассортимент простирался от чистых эссенций, цветочных масел, настоек, вытяжек, секреций,
бальзамов, смол и прочих препаратов в сыпучей, жидкой и вязкой
форме — через помады, пасты, все сорта пудры и мыла, сухие
духи, фиксатуары, бриллиантины, эликсиры для ращения бороды,
капли для сведения бородавок и крошечные пластыри для
исправления изъянов внешности — вплоть до притираний, лосьонов,
ароматических солей, туалетных жидкостей и бесконечного
количества духов. Но Бальдини не довольствовался этими
продуктами классической косметики. Он считал делом чести
собирать в своей лавке все, что источало какой-либо аромат или
как-либо служило для получения аромата. И потому наряду с
курительными свечками, пастилками и ленточками там имелись все
пряности — от семян аниса до палочек корицы, сиропы, ликеры и
фруктовые воды, вина с Кипра, Малаги и из Коринфа, множество
сортов меда, кофе, чая, сушеные и засахаренные фрукты, фиги,
карамели, шоколадки, каштаны, даже консервированные каперсы,
огурцы и лук и маринованный тунец. А кроме того,
ароматизированный сургуч для печатей, надушенная писчая бумага,
чернила для любовных писем, пахнущие розовым маслом, бювары из
испанской кожи, футляры для перьев из белого сандалового
дерева, горшочки и чашечки для цветочных лепестков,
курительницы из латуни, флаконы и флакончики из хрусталя с
притертыми янтарными пробками, пахучие перчатки, носовые
платки, подушечки для иголок, набитые мускатным цветом, и
пропитанные мускусом обои, которые могли более ста лет
наполнять комнату ароматом.
- Раньше публика вполне довольствовалась фиалковой водой и
простыми цветочными смесями, которые разве что слегка
изменялись раз в десять лет. Тысячелетиями люди обходились
ладаном и миррой, несколькими бальзамами, маслами и сушеными
пряностями. И даже после того, как они научились с помощью перегонных кубов получать дистиллированную воду, с помощью водяного пара отбирать у трав, цветов и различных сортов
древесины их благоухающую суть в виде эфирного масла, с помощью
дубовых прессов выжимать ее из семян, и косточек, и кожуры
фруктов или с помощью тщательно профильтрованных жиров
извлекать ее из цветочных лепестков, число запахов было еще
ограниченным… Нужно было не только уметь дистиллировать, нужно было быть изготовителем мазей и аптекарем, алхимиком и ремесленником, торговцем, гуманистом и садовником одновременно.
Нужно было уметь отличить жир бараньей почки от телячьего жира,
а фиалку "виктория" от пармской фиалки. Нужно было знать, когда
созревают гелиотропы и когда цветет пеларгония и что цветок
жасмина с восходом солнца теряет свой аромат. Об этих вещах
субъект вроде Пелисье, разумеется, не имел понятия. Вероятно,
он никогда еще не уезжал из Парижа, никогда еще в жизни не
видел цветущего жасмина. Ему и во сне не снилось, какая нужна
гигантская черная работа, чтобы из ста тысяч жасминовых
лепестков извлечь маленький комочек конкреции или несколько
капель чистой эссенции. Вероятно, он знал только ее, знал
жасмин только в виде концентрированной темно-коричневой
жидкости в маленьком флаконе, стоявшем у него в несгораемом
шкафу рядом со многими другими флакончиками, из которых он
смешивал свои модные духи.
- Всеми своими успехами Пелисье обязан исключительно
открытию, сделанному двести лет назад гениальным Маурицио
Франжипани — кстати, итальянцем! — и состоявшему в том, что
ароматические вещества растворимы в винном спирте. Смешав свои
пахучие порошки с алкоголем и перенеся тем самым их запах на
летучую жидкость, он освободил запах от материи, одухотворил
его, изобрел запах как чистый запах, короче: создал духи. Какое великое деяние!... Его действительно можно сравнить только с величайшими достижениями человеческого рода, с изобретением письма ассирийцами, с евклидовой
геометрией, с идеями Платона и превращением винограда в вино
греками. Но… великолепное открытие Франжипани имело, к сожалению,
дурные последствия. Ибо с тех пор, как люди научились
зачаровывать дух цветов и трав, деревьев, смол и секреций
животных и удерживать его в закрытых флаконах, искусство
ароматизации постепенно ускользало от немногих универсально
владевших ремеслом мастеров и открылось шарлатанам, которые
только и умели что держать нос по ветру — вроде этого вонючего
хорька Пелисье. Не заботясь о том, как и когда возникло
волшебное содержимое его флаконов, он может теперь просто
исполнять капризы своего обоняния и смешивать все, что вдруг
взбредет на ум ему или публике.
- Второе правило гласит: духи живут во времени; у них есть
своя молодость, своя зрелость и своя старость. И только если
они во всех трех возрастах источают одинаково приятный аромат,
их можно считать удачными. Ведь сколько уж раз бывало так, что
изготовленная нами смесь при первой пробе пахла великолепной
свежестью, спустя короткое время — гнилыми фруктами и, наконец,
совсем уже отвратительно — чистым цибетином, потому что мы
превысили его дозу. Вообще с цибетином надо соблюдать
осторожность! Одна лишняя капля может привести к
катастрофическим последствиям.
- И он бросился обратно к письменному столу, вытащил бумагу,
чернила и свежий носовой платок, разложил все это у себя под
руками и приступил к аналитической работе. Она заключалась в
том, что он быстро проносил под носом смоченный духами платок и
пытался из пролетавшего мимо ароматного облака выхватить
обонянием ту или иную составную часть, стараясь при этом по
возможности отвлечься от целостного восприятия, чтобы потом,
держа платок подальше от себя в вытянутой руке, быстро написать
название обнаруженного ингредиента, после чего снова провести
платком под носом, подцепить следующие фрагмент запаха и так
далее...
- Оставалось только выяснить, в каком точном отношении друг к другу
следовало их сочетать. Чтобы выяснить это, ему, Бальдини,
пришлось бы экспериментировать несколько дней кряду — ужасная
работа, пожалуй, еще хуже, чем простая идентификация частей,
ведь надо было измерять, и взвешивать, и записывать, и при этом
быть дьявольски внимательным, ибо малейшая неосторожность —
дрожание пипетки, ошибка в счете капель — могла все погубить. А
каждый неудавшийся опыт обходился чудовищно дорого. Каждая
испорченная смесь стоила небольшое состояние..
- Аромат был так божественно хорош, что Бальдини внезапно
прослезился. Ему не надо было брать пробы, он только стоял у
рабочего стола перед смесителем и дышал. Духи были великолепны.
…Он открыл глаза и застонал от удовольствия. Эти
духи не были духами, какие были известны до сих пор. Это был не
аромат, который улучшает ваш запах, не протирание, не предмет
туалета. Это была совершенно своеобразная, новая вещь, которая
могла извлечь из себя целый мир, волшебный богатый мир, и вы
сразу забывали все омерзительное, что было вокруг, и
чувствовали себя таким богатым, таким благополучным, таким
хорошим...
- И какие это были ароматы! Не только духи высочайшей, самой
высочайшей пробы, но и кремы, и пудра, и мыло, и лосьоны для
волос, и протирания... Все, что должно было благоухать,
благоухало теперь все, ну действительно на все, даже на
ароматизированные повязки для волос, которые однажды создало
капризное настроение Бальдини, публика кидалась как
околдованная, и цены не играли никакой роли. Все, что
изготовлял Бальдини, пользовалось успехом.
- Итак, он с готовностью подчинялся инструкциям, осваивая
искусство варки мыла из свиного сала, шитья перчаток из замши,
смешивания пудры из пшеничной муки, и миндальной крошки, и
толченого фиалкового корня. Он катал ароматные свечи из
древесного угля, селитры и стружки сандалового дерева. Он
прессовал восточные пастилки из мирры, бензойной смолы и
янтарного порошка. Он замешивал в тесто ладан, шеллак,
ветиверию и корицу и скатывал из него курительные шарики. Он
просеивал и растирал шпателем Poudre imperiale из размельченных
розовых лепестков, цветков лаванды и коры каскары. Он варил
грим, белый и венозноголубой, и формовал ширные палочки,
карминнокрасные, для губ. Он разводил водой мельчайшие порошки
для ногтей и сорта мела для зубов, с привкусом мяты. Он
составлял жидкость для завивки париков, капли для сведения
бородавок и мозолей, отбеливатель для кожи и вытяжку белладонны
для глаз, мазь из шпанских мушек для кавалеров и гигиенический
уксус для дам... Гренуй научился изготовлению всех лосьончиков
и порошочков, туалетных и косметических составчиков, а кроме
того, чайных смесей, смесей пряностей, ликеров, маринадов и
прочего; короче, он усвоил всю традиционную премудрость,
которую смог преподать ему Бальдини, хотя и без особого
интереса, но безропотно и вполне успешно. Зато он проявлял
особенное рвение, когда Бальдини инструктировал его по части
приготовления тинктур, вытяжек и эссенций. Не зная усталости,
он давил в винтовом прессе ядра горького миндаля, толок зерна
муската, или рубил сечкой серый комок амбры или расщеплял
фиалковый корень, чтобы затем настаивать стружку на чистейшем
спирту. Он научился пользоваться разделительной воронкой, чтобы
отделять чистое масло выжатых лимонных корок от мутного
остатка. Он научился высушивать травы и цветы — на решетках в
тени и тепле — и консервировать шуршащую листву в запечатанных
воском горшках и шкатулках. Он овладел искусством вываривать
помады, изготовлять настои, фильтровать, концентрировать,
осветлять и делать вытяжки.
- Правда, мастерская Бальдини не была рассчитана на оптовое
производство цветочных и травяных масел. Да и в Париже вряд ли
нашлось бы необходимое количество свежих растений. Но иногда,
когда розмарин, шалфей, мяту или семена аниса можно было дешево
купить на рынке или когда поступали довольно крупные партии
клубней ириса, или балдрианова корня, тмина, мускатного ореха,
или сухих цветов гвоздики, в Бальдини просыпался азарт
алхимика, и он вытаскивал свой большой медный перегонный куб с
насаженным на него конденсаторным ковшом. Он называл это
"головой мавра" и гордился тем, что сорок лет назад на южных
склонах Лигурии и высотах Люберона он в чистом поле
дистиллировал с его помощью лаванду. И пока Гренуй размельчал
предназначенный для перегонки товар, Бальдини в лихорадочной
спешке, ибо быстрота обработки есть альфа и омега этого дела —
разводил огонь в каменной печи, куда ставил медный котел с
довольно большим количеством воды. Он бросал туда разрубленные
на части растения, насаживал на патрубок двустенную крышку —
"голову мавра" — и подключал два небольших шланга для
вытекающей и втекающей воды. Эта изощренная конструкция для
охлаждения конденсата, объяснял он, была встроена им позже, ибо
в свое время, работая в поле, он, разумеется, добивался
охлаждения просто с помощью ветра. Затем он раздувал огонь.
Содержимое куба постепенно закипало. И через некоторое
время, сперва колеблющимися каплями, потом нитеобразной
струйкой дистиллят вытекал из третьей трубки "головы мавра" во
флорентийскую флягу, подставленную Бальдини. Сначала он
выглядел весьма невзрачно, как жидкий мутный суп. Но
постепенно, особенно после того, как наполненная фляга
заменялась на новую и спокойно отставлялась в сторону, эта гуща
разделялась на две различные жидкости: внизу отстаивалась
цветочная или травяная вода, а сверху плавал толстый слой
масла. Теперь оставалось только осторожно, через нижнее
горлышко флорентийской фляги, слить нежноблагоухающую
цветочную воду и получить в остатке чистое масло, эссенцию,
сильно пахнущую сущность растения. Гренуй был восхищен этим процессом. Если когда-нибудь в
жизни что-нибудь вызывало в нем восторг — конечно, внешне никак
не проявляемый, но скрытый, горящий холодным пламенем восторг,
— то именно этот способ при помощи огня, воды и пара и
хитроумной аппаратуры вырывать у вещей их благоуханную душу.
Ведь благоуханная душа, эфирное масло, было самым лучшим в них,
единственным, что его в них интересовало. Пошлый остаток:
цветы, листья, кожура, плоды, краски, красота, живость и прочий
лишний хлам его не заботили. Это была только оболочка, балласт.
Это шло на выброс. Время от времени, по мере того как дистиллят становился
водянисто—прозрачным, они снимали чан с огня, открывали его и
вытряхивали жижу... Они выбрасывали ее через окно в реку. Затем доставали
новые свежие растения, доливали воду и снова ставили перегонный
куб на огонь. И снова в нем начинало кипеть, и снова жизненный
сок растений стекал во флорентийские фляги. Часто это
продолжалось всю ночь напролет. Бальдини следил за печью,
Гренуй не спускал глаз со струи — больше ему нечего было делать
до момента смены фляг.
- Прошло немного времени, и он стал специалистом в ремесле
перегонки. Он обнаружил — и его нос помог ему в этом больше,
чем правила и наставления Бальдини, — что жар огня оказывает
решающее влияние на качество получаемого дистиллята. Каждое
растение, каждый цветок, каждый сорт древесины и каждый плод
требовал особой процедуры. Иногда приходится создавать
мощнейшее парообразование, иногда — лишь умеренно сильное
кипение, а некоторые цветы отдают свой лучший аромат только
если заставить их потеть на самом медленном пламени.
Не менее важным был и сам процесс приготовления. Мяту и
лаванду можно было обрабатывать целыми охапками. Андрес нужно
было тщательно перебирать, растрепать, порубить, нашинковать,
растолочь и даже измельчить в муку, прежде чем положить в
медный чан. Но кое-что вообще не поддавалось перегонке, и это
вызывало у Гренуя чрезвычайную досаду.
Увидев, как уверенно Гренуй обращается с аппаратурой,
Бальдини предоставил перегонный куб в его полное распоряжение,
и Гренуй не замедлил воспользоваться этой свободой. Целыми
днями он составлял духи и изготавливал прочие ароматные и
пряные продукты, а по ночам занимался исключительно
таинственным искусством перегонки. Его план заключался в том,
чтобы изготовить совершенно новые пахучие вещества, и с их
помощью создать хотя бы некоторые из тех ароматов, которые он
носил в своем воображении. Поначалу он добился кое-каких
успехов. Ему удалось изготовить масло из крапивы и семян
кресс—салата и туалетную воду из свежесодранной коры бузины и
ветвей тиса.
- Правда, дистилляты по своему аромату почти не напоминали
исходных веществ, но все же были достаточно интересны для
дальнейшей переработки. Впрочем, потом попадались вещества, для
которых этот способ совершенно не годился. Например, Гренуй
попытался дистиллировать запах стекла, глинистопрохладный
запах гладкого стекла, который обычный человек совершенно не
воспринимает. Гренуй раздобыл оконное стекло и обрабатывал его
в больших кусках, в обломках, в осколках, в виде пыли — без
малейшего успеха. Он дистиллировал латунь, фарфор и кожу, зерно
и гравий. Просто землю. Кровь, и дерево, и свежую рыбу. Свои
собственные волосы. Наконец, он дистиллировал даже воду, воду
из Сены, потому что ему казалось, что ее своеобразный запах
стоит сохранить. Он думал, что с помощью перегонного куба он
мог бы извлечь из этих веществ их особый аромат, как извлекал
его из чабреца, лаванды и семян тмина. Ведь он не знал, что
возгонка есть не что иное, как способ разложения смешанных
субстанций на их летучие и нелетучие составные части и что для
парфюмерии она полезна лишь постольку, поскольку может отделить
летучие эфирные масла некоторых растений от их не имеющих
запаха или слабо пахнущих остатков. Для субстанций, лишенных
этих эфирных масел, подобный метод дистилляции, разумеется,
бессмыслен. Нам, современным людям, изучавшим физику, это сразу
ясно. Однако Гренуй пришел к этому выводу ценой огромных усилий
после длинного ряда разочаровывающих опытов. Месяцами он
просиживал у куба ночи напролет и всеми мыслимыми способами
пытался путем перегонки произвести абсолютно новые ароматы,
ароматы, которых до сих пор не бывало на земле в
концентрированном виде. И ничего из этого не получилось, кроме
нескольких жалких растительных масел. Из глубокого, неизмеримо
богатого колодца своего воображения он не извлек ни единой
капли конкретной ароматической эссенции, из всего, что
мерещилось его фантастическому обонянию, он не смог реализовать
ни единого атома.
-
Даже в самых удаленных местах были люди… Земля не очищалась от них, потому что даже во
сне они источали свой запах, проникавший сквозь открытые окна и щели их обиталищ наружу и отравляли природу, предоставленную, казалось бы, самой себе. Чем больше привыкал Гренуй к более чистому воздуху, тем чувствительнее терзал его человеческий запах, который
внезапно, совершенно неожиданно возникал в воздухе, ужасный, как козлиное зловоние, и выдавал
присутствие какого-то пастушьего приюта, или хижины углежога, или разбойничьей пещеры. И Гренуй бежал все дальше прочь,
реагируя все чувствительнее на встречающийся все реже запах человечины.
Так его нос уводил его во все более отдаленные местности страны, все более удалял его от
людей и все энергичнее притягивал его к магнитному полюсу максимально возможного одиночества.
-
Мастерская и лавка Рунеля были оборудованы далеко не так роскошно, как
в свое время магазин ароматических товаров Бальдини в Париже.
Несколько сортов цветочных масел, воды и пряностей не давали простора для фантазии
обычному парфюмеру. Однако Гренуй, едва втянув воздух, сразу же понял, что имеющихся материалов для его целей
вполне достаточно. Он не собирался создавать никакого великого аромата; не хотел он смешивать, как в свое время у
Бальдини, и престижных духов, которые выделялись бы из моря посредственности и сводили бы людей с ума. И даже простой запах цветов апельсинового дерева, обещанный маркизу, не был его целью. Расхожие эссенции эвкалипта и кипарисового листа должны были только
замаскировать настоящий аромат, который он решил изготовить, — а этим ароматом был человеческий запах. Он хотел присвоить себе, пусть
даже сперва в качестве плохого суррогата, запах человека, которым сам он не обладал. Конечно, запаха человека вообще не
бывает, так же как не бывает человеческого лица вообще. Каждый человек пахнет по-своему, никто не понимал этого лучше,
чем Гренуй, который знал тысячи индивидуальных запахов и с рождения различал людей на нюх. И все же, с точки зрения
парфюмерии, была некая основная тема человеческого запаха, впрочем довольно простая: потливожирная, сырнокисловатая,
в общем достаточно противная основная тема, свойственная в равной степени всем людям, а уж над ней в более тонкой градации
колышутся облачка индивидуальной ауры.
- Запах смеси был чудовищен. Она воняла клоакой, разложением, гнилью, а когда взмах веера примешивал к этому
испарению чистый воздух, возникало впечатление, что вы стоите в жаркий летний день в Париже на пересечении улиц О-Фер и Ленжери, где сливаются запахи рыбных рядов, Кладбища невинных и переполненных домов. На эту жуткую основу, которая сама по себе издавала скорее
трупный, чем человеческий запах, Гренуй наложил всего один слой ароматов эфирных масел: перца, лаванды, терпентина, лимона,
эвкалипта, а их он смягчил и одновременно скрыл букетом тонких цветочных масел герани, розы, апельсинового цвета и жасмина.
После повторного разбавления спиртом и небольшим количеством уксуса отвратительный фундамент, на котором зиждилась вся смесь,
стал совершенно неуловимым для обоняния. Свежие ингредиенты сделали незаметным латентное зловоние, аромат цветов украсил
омерзительную суть, даже почти придал ей интерес, и, странным образом, нельзя было больше уловить запаха гнили и разложения,
он совершенно не ощущался. Напротив, казалось, что эти духи источают энергичный, окрыляющий аромат жизни.
-
…он заставит их полюбить себя.
Оказавшись в сфере воздействия его аромата, они будут вынуждены не только
принять его как себе подобного, но полюбить его до безумия, до самозабвения, он заставит их дрожать
от восторга, кричать, рыдать от блаженства, едва почуяв его, Гренуя,
они будут опускаться на колени, как под холодным ладаном Бога!
Он хотел стать всемогущим богом аромата, каким он был в своих фантазиях,
но теперь — в действительном мире и над реальными людьми. И он
знал, что это было в его власти. Ибо люди могут закрыть глаза и
не видеть величия, ужаса, красоты, и заткнуть уши, и не слышать
людей или слов. Но они не могут не поддаться аромату. Ибо
аромат — это брат дыхания. С ароматом он войдет в людей, и они
не смогут от него защититься, если захотят жить. А аромат проникает в самую
глубину, прямо в сердце, и там выносит
категорическое суждение о симпатии и презрении, об отвращении и
влечении, о любви и ненависти. Кто владеет запахом, тот владеет
сердцами людей.
-
Этот одновременно невзрачный и самоуверенный городок назывался Грас и вот
уже несколько десятилетий считался бесспорной столицей торговли
и производства ароматических веществ, парфюмерных
товаров, туалетных сортов мыла и масел.
Джузеппе Бальдини всегда произносил его название с мечтательным
восхищением. Он утверждал, что этот город — Рим ароматов,
обетованная страна парфюмеров, и
тот, кто не прошел здешней
школы, не имеет права на звание парфюмера.
-
Гренуй … пришел, потому что знал, что там лучше, чем где бы то ни было,
можно изучить некоторые технические приемы извлечения ароматов.
Их-то он и хотел освоить, ибо нуждался в них для своих целей.
Он вытащил из кармана флакон со своими духами,
экономно надушился и отправился в путь.
… Город
был
невероятно
грязным,
несмотря или скорее благодаря
большому
количеству
воды,
которая
струилась
из
дюжины
источников и фонтанов, ворковала в неухоженных ручьях и
сточных
канавах
и
подмывала
или
наводняла
илом
переулки.
… Совершая свой
обход, Гренуй
насчитал
не менее семи мыловарен, дюжину
парфюмерных и
перчаточных ателье, бесчисленное множество мелких
мастерских по
изготовлению дистиллятов, помад и специй и, наконец, около
семи
оптовых лавок, где торговали ароматическими изделиями.
-
Он закрыл глаза и сконцентрировался на запахах, долетавших
до него от здания. Тут были запахи бочек уксуса и
вина,
потом
сотни
тяжелых
запахов
склада,
потом
запахи
богатства,
проникавшие
сквозь
стены,
как
испарина
золотого
пота,
и,
наконец,
запахи
сада,
по-видимому,
расположенного
с другой
стороны дома. Было нелегко
уловить
эти
нежные
запахи
сада,
потому
что
они
лишь тонкими полосками перетекали через крышу
дома вниз на улицу. Гренуй учуял магнолию, гиацинты,
шелковицу
и рододендрон... — но, казалось, там было еще что-то,
какое-то
убийственно
прекрасное
благоухание.
Он никогда в жизни — или
нет, лишь один-единственный раз в жизни
воспринимал
обонянием
столь изысканный аромат. Его потянуло приблизиться… Он
снова
закрыл
глаза. На него
обрушились ароматы этого
сада, прочерченные отчетливо и ясно, как цветные ленты
радуги.
И
тот,
драгоценный, тот, к которому его влекло, был среди них. Гренуй почувствовал жар блаженства и похолодел от ужаса.
Кровь
бросилась ему в голову, как пойманному мошеннику, и
отхлынула в
середину
тела,
и
снова
поднялась,
и
снова отхлынула, и он
ничего не мог с этим поделать. Слишком внезапной была эта
атака
запаха… аромат, струившийся из сада был ароматом
рыжеволосой девушки, которую он тогда
умертвил.
То,
что
он
снова нашел в мире
этот аромат,
наполнило его глаза слезами блаженного счастья,
—
а
то,
что
этого могло не быть, испугало его до смерти.
-
Он знал, что дети пахнут
не
особенно
сильно
— так же как зеленые,
нераспустившиеся бутоны
цветов. Но этот
цветок,
этот
почти
еще
закрытый
бутон
за
стеной,
еще
никем
кроме Гренуя
не
замеченный,
только еще
выпускающий первые душистые
острия
лепестков,
благоухал
уже
теперь
так
божественно,
что волосы вставали дыбом. А если он
распустился
во
всем
своем
великолепии,
он
будет
источать
аромат, какого никогда еще не обонял мир. Она уже сейчас
пахнет
лучше,
подумал
Гренуй, чем тогдашняя девушка с улицы
Марэ, не
так
крепко,
не
так
роскошно,
но
тоньше,
многограннее
и
одновременно естественней. А за два-три года этот запах
созреет
и приобретет такую власть, что ни один человек — ни
мужчина, ни
женщина
—
не сможет не подчиниться ей… И
все
они
не
узнают,
что
в
действительности
очарованы
не
ее
внешностью, не ее якобы не
имеющей изъянов красотой,
но
единственно
ее
несравненным,
царственным ароматом! …Он
хотел
завладеть
этим ароматом! Завладеть не так
безрассудно, как тогда на улице Марэ.
Запах
той
девушки
он
просто
выпил,
опрокинул
в
себя
и тем разрушил. Нет,
аромат
девушки за стеной он хотел
присвоить
по-настоящему:
снять
с нее,
как
кожу,
и
сделать
своим собственным.
-
Стояла пора нарциссов. Мадам Арнульфи разводила
цветы
на
собственных
маленьких
участках в пределах
города или покупала
их
у
крестьян,
с
которыми
бешено
торговалась
за
каждую
корзинку.
Цветы
доставлялись в ателье рано
утром, их высыпали
из корзин десятками тысяч, сгребали в огромные, но легкие,
как перья, душистые груды.
Тем временем Дрюо распускал в большом
котле свиное и говяжье
сало;
в
это
сметанообразное
варево,
которое
Гренуй
должен
был непрерывно помешивать длинным, как
метла,
шпателем,
Дрюо швырял лопатами свежие цветы. Как смертельно испуганные глаза, они всего
секунду лежали на поверхности и моментально бледнели, когда их подхватывал
шпатель и погружал в горячий жир. И почти в тот же миг они уже размякали и
увядали, и, очевидно, смерть их наступала так быстро, что им не оставалось
никакого другого выбора, кроме как передать свой последний благоухающий вздох
как раз той среде, в которой они тонули, ибо — Гренуй
понял
это,
к
своему
неописуемому восхищению, — чем больше цветов он
перемешивал
в
своем котле, тем сильнее благоухал жир. И ведь не мертвые
цветы
продолжали источать
аромат
в
жиру,
нет,
это
был сам жир,
присвоивший себе аромат цветов.
- Между тем варево густело, и им приходилось быстро выливать
его на большое решето, чтобы освободить от влажных трупов и
подготовить для свежих цветов. Так они продолжали засыпать,
мешать и фильтровать весь день без перерыва, потому что процесс
не допускал замедления, так что к вечеру вся груда цветов
пропускалась через котел с жиром. Отходы - чтобы ничего не
пропадало - заливались кипящей водой и до последней капли
выжимались на шпиндельном прессе, что к тому же давало еще и
нежно пахнувшее масло. Но основа аромата, душа целого моря
цветов, оставалась в котле, запертая и охраняемая в невзрачном,
серо-белом, теперь медленно застывающем жиру.
На следующий день мацерация, так называлась эта процедура,
продолжалась, котел снова подогревали, жир распускали и
загружали новыми цветами. Так оно шло несколько дней с утра до
вечера… Через некоторое время Дрюо решал, что жир стал насыщенным
и не сможет больше абсорбировать аромат. Они гасили огонь,
последний раз процеживали сквозь решето тяжелое варево и
наполняли им каменный тигель, где оно тут же застывало в
великолепную благоухающую помаду.
- И если по
наведении справок у Мадам Арнульфи складывалось впечатление, что рынок
перенасыщен помадами и в обозримое время спрос на ее товар не
возрастет, она в своей развевающейся шали спешила домой и
приказывала Дрюо переработать всю продукцию в Essence Absolue.
И тогда помаду снова выносили из подвала, осторожнейшим
образом подогревали в закрытых горшках, добавляли чистейший
винный спирт и с помощью встроенной мешалки, которую приводил в
действие Гренуй, основательно перемешивали и вымывали.
Возвратившись в подвал, эта смесь быстро охлаждалась, спирт
отделялся от застывшего жира помады, и его можно было слить в
бутыль. Теперь он представлял собой нечто вроде духов, но
огромной интенсивности, в то время как оставшаяся помада теряла
большую часть своего аромата. Таким образом, цветочный аромат
еще раз переходил в другую среду. Но на этом операция не
кончалась. После основательной фильтрации через марлю, где
застревали даже мельчайшие комочки жира, Дрюо наполнял
ароматизированным спиртом маленький перегонный куб и медленно
дистиллировал его на самом слабом огне. После испарения спирта
в емкости оставалось крошечное количество бледно окрашенной
жидкости, хорошо знакомой Греную; однако в таком качестве и
чистоте он не обонял ее ни у Бальдини, ни скажем, у Рунеля: это
было сплошное, чистейшее сияющее цветочное масло, голый аромат,
тысячекратно сконцентрированный в лужице Essence Absolue. Эта
эссенция уже не имела приятного запаха. Она пахла почти с
болезненной интенсивностью, остро и едко. И все же достаточно
было одной ее капли, растворенной в литре алкоголя, чтобы снова
обонятельно воскресить целое поле цветов.
Конечно, продукта было ужасно мало. Жидкости из
дистиллятора хватало ровно на три маленьких флакона. Всего три
флакона аромата оставалось от сотен тысяч цветов. Но они стоили
целое состояние даже здесь, в Грасе. И во сколько же раз еще
дороже, если их отправляли в Лион, в Гренобль, в Геную или в
Марсель!
- В апреле они мацерировали черемуху и апельсиновый цвет, в
мае - море роз, чей аромат на целый месяц погрузил город в
невидимый сладкий, как крем, туман. Гренуй работал как лошадь.
Скромно, с почти рабской готовностью он выполнял все подсобные
операции, которые поручал ему Дрюо. Но пока он, казалось бы,
тупо размешивал и сгребал цветы, мыл бутылки, подметал
мастерскую или таскал дрова, от его внимания не ускользала ни
одна из существенных сторон ремесла, ни одна из метаморфоз
ароматов. Исправней, чем когда-либо мог это сделать Дрюо,
благодаря своему носу, Гренуй сопровождал и охранял
передвижение ароматов от цветочных лепестков через жир и спирт
в драгоценные маленькие флаконы. Он намного раньше, чем замечал
Дрюо, чуял, когда жир начинал перегреваться, чуял, когда
цветочная масса выдыхалась, когда варево насыщалось ароматом,
он чуял, что происходило внутри смесителей и в какой точно
момент процесс дистилляции должен был прекратиться. И каждый
раз давал это понять, разумеется, как бы ненароком, не снимая
маски угодливости. Ему кажется, говорил он, что сейчас жир,
наверное, стал слишком горячим; он почти уверен, что пора вроде
бы заливать сита; у него такое чувство, как будто спирт в
перегонном кубе вот-вот начнет испаряться...
- В конце июня началось время жасмина, в августе - ночных
гиацинтов. Оба растения обладали столь изысканным и
одновременно хрупким благоуханием, что нужно было не только
срывать их цветы до восхода солнца, но и подвергать их
особенной, самой бережной обработке. Тепло уменьшало их аромат,
внезапное погружение в горячий мацерационный жир полностью
разрушило бы его. Эти благороднейшие из всех цветов не
позволяли так просто вырвать у себя душу, и ее приходилось
прямо-таки выманивать хитростью. В особом помещении их
рассыпали на смазанные жиром гладкие доски или не прессуя
заворачивали в пропитанные маслом холсты, где их медленно
усыпляли до смерти. Только спустя три или четыре дня они
увядали, выдыхая свой аромат на соседствующий жир или масло.
Потом их осторожно выбирали и рассыпали свежие цветки. Процесс
повторялся десять - двадцать раз, и к тому времени, когда
помада насыщалась и можно было выжимать из холстов
ароматическое масло, наступал сентябрь. Здесь добычи было еще
меньше, чем при мацерации. Однако качество полученной путем
холодного анфлеража жасминной пасты или изготовленного по
старинному рецепту туберозового мыла превосходило по своей
изысканности и верности оригиналу любой другой продукт
парфюмерного искусства. Казалось, что на жирных пластинах, как
в зеркале, был запечатлен сладостно-стойкий эротический аромат
жасмина и отражался вполне естественно - с приправой, конечно. Ибо нюх Гренуя, разумеется, еще обнаруживал различие
между запахом цветов и их консервированным ароматом: словно
тонкое покрывало лежал на нем собственный запах жира (сколь
угодно чистого), сглаживая ароматический образ оригинала,
умеряя его пронзительность, может, даже вообще делая его
красоту выносимой для обычных людей... Во всяком случае,
холодный анфлераж был самым изощренным и действенным средством улавливания нежных запахов. Лучшего не было.
- Уже очень скоро он превзошел своего учителя Дрюо как в
мацерировании, так и в искусстве холодной ароматизации и дал
ему это понять проверенным угодливо-тактичным образом. Дрюо
охотно поручал ему выходить в город, на бойню, и покупать там
самые подходящие сорта жира, очищать их, распускать,
фильтровать и определять пропорции смесей. Сам Дрюо всегда
боялся этой работы и выполнял ее с величайшим трудом, потому
что нечистый, прогорклый или слишком отдающий свининой,
говядиной или бараниной жир мог разрушить драгоценную помаду.
Он передоверил Греную определять промежутки между жирными
пластинами в помещении для ароматизации, время смены цветов,
степень насыщения помады, он вскоре передоверил ему все
рискованные решения, которые он, Дрюо, так же, как некогда
Бальдини, мог принимать лишь наобум, по выученным правилам, а
Гренуй - со знанием дела, чем был обязан своему носу о чем
Дрюо, конечно, не подозревал.
- Его духи, которые
он изготовил в Монпелье, хоть он и расходовал их очень
экономно, уже кончились. Он сочинил новые. Но на этот раз он не
удовольствовался имитацией на скорую руку из случайно
подвернувшихся материалов основного человеческого запаха, но
вложил все свое тщеславие в создание личного аромата и даже
множества личных ароматов.
Сначала он сделал для себя запах незаметности,
мышино-серое будничное платье, в котором кисловато-сырный
человеческий аромат хотя и присутствовал, но пробивался лишь
слегка, словно сквозь толстый слой плотной шерстяной одежды,
натянутой на сухую старческую кожу. С таким запахом ему было
удобно находиться среди людей. Духи были достаточно сильные,
чтобы обонятельно обосновать существование некой особы, и
одновременно настолько скромные, что никто их не замечал. С их
помощью Гренуй обонятельно как бы не присутствовал и все же
самым скромным образом всегда оправдывал свое наличие. Это было
ему очень кстати как в доме мадам Арнульфи, так и во время его
случайных вылазок в город.
Правда, в некоторых обстоятельствах этот скромный аромат
оказался помехой. Когда ему по заданию Дрюо приходилось делать
покупки или когда он хотел у какого-нибудь торговца купить
немного цибетина или несколько зерен мускуса, могло произойти
так, что при его совершенной невзрачности его либо совсем не
замечали и не обслуживали, либо хотя и замечали, но давали не
то или забывали обслужить. Для таких случаев он сотворил себе
более породистые, слегка потливые духи, с некоторыми
обонятельными углами и кантами, придававшие ему более грубую
внешность и заставлявшие людей думать, что он спешит по
неотложным делам. Кроме того, с помощью имитации свойственной
Дрюо aura seminalis, которую он сумел воссоздать путем
ароматизации жирного полотняного платка пастой из свежих утиных
яиц и обжаренной пшеничной муки, он добивался хороших
результатов, когда надо было в какой-то мере привлечь к себе
внимание.
- Следующими духами из его арсенала был запах, возбуждавший
сострадание, безотказно действовавший на женщин среднего и
пожилого возраста. Это был запах жидкого молока и чистого
мягкого дерева. В нем Гренуй - даже если он входил небритым, с
кислой миной, не снимая плаща - производил впечатление бедного
бледного паренька в рваной куртке, которому нужно было помочь.
Рыночные торговки, услышав этот запах, совали ему орехи и
сушеные груши - таким голодным и беспомощным он им казался. А
жена мясника, известная своей неумолимостью и скупостью
позволила ему выбрать и взять задаром старые вонючие остатки
мяса и костей, ибо его аромат невинности растрогал ее
материнское сердце. Из этих остатков он, в свою очередь, путем
прямой пропитки алкоголем извлек главные компоненты запаха,
которым пользовался, если непременно хотел остаться в
одиночестве. Этот запах создавал вокруг него атмосферу тихого
отвращения, дуновение гнили, которое шибает по утрам из старых
неухоженных ртов. Эффект был так силен, что даже не слишком
брезгливый Дрюо непроизвольно отворачивался и выходил на свежий
воздух, разумеется не вполне отдавая себе отчет, что на самом
деле вытолкало его из дома. А нескольких капель этого
репеллента, пролитых на порог хижины, оказалось достаточно,
чтобы держать на расстоянии любого непрошеного гостя, будь то
человек или зверь.
|
| |
|
информация |
|
| |
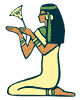 | |
|